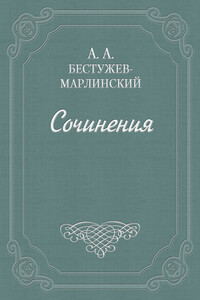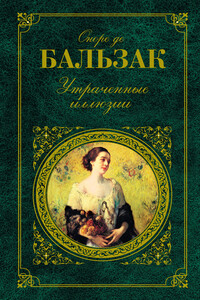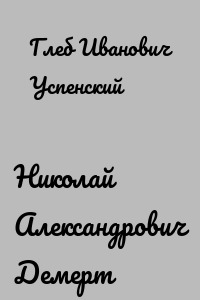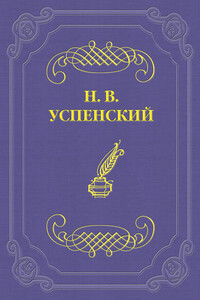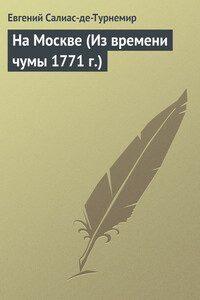Скачать книги жанра Литература 19 века
«О родина, святая родина! Какое на свете сердце не встрепенется при виде твоем? Какая ледяная душа не растает от веянья твоего воздуха?»
Так думал Владимир Ситцкий, с грустною радостию озирая с коня нивы, и пажити, и рощи переславские, свидетелей его детства, и любопытным взором, как будто желая испытать память свою, искал и предугадывал он мелькающие из-за лесу главы обителей…»
«К числу приятнейших эпизодов моей жизни принадлежит заочное сближение, перешедшее наконец в истинную дружбу, с Александром Александровичем Бестужевым!.. Его необыкновенная судьба и не менее необыкновенное дарование. как писателя, делают его лицом чрезвычайно любопытным, столько же для современников, сколько для потомства, и потому я почитаю счастием, что могу познакомить русскую публику с последними годами жизни этого достопамятного человека, изданием писем его, писанных к брату моему Николаю Алексеевичу и ко мне, с 1831-го года почти по день его смерти…»
«…Дорога тянулась между скал, поросших мохом. Лошади скользили, поднимаясь на крутизну, и наконец совсем остановились. Мы принуждены были выйти из коляски…
Тогда только мы заметили на вершине почти неприступного утеса нечто, имевшее вид человека. Это привидение, в черной епанче, сидело недвижно между грудами камней в глубоком безмолвии…»
«Есть слова, которые мы часто употребляем, не обращая внимания на их глубокое значение; мы говорим: «Это противно внутреннему чувству, этим возмущается человечество, этому сердце отказывается верить». Какое чувство породило эти выражения? Оно не есть следствие рассуждений, не есть следствие воспитания, – одним словом, не есть следствие разума. Вы видите казнь преступника; разум убеждает вас, что она необходима, но было бы противно внутреннему чувству не скорбеть о нем. Разум уверяет вас, что вы должны умерщвлять своего противника в пылу сражения, – но спросите самого храброго воина, что ощущает он, проходя по полю битвы после сражения? Ведь эти раны были необходимы, эти страдания суть необходимое следствие правой битвы, отчего же его сердце трепещет, отчего дрожь проходит по его телу, отчего его человечество возмущается? Отчего иногда, как самое сердце ваше поражено какой-либо страстью, и рассудок уверяет вас, что вы можете предаться ей безопасно, но еще какое-то внутреннее чувство вас удерживает?»
«В городе Т. существует Растеряева улица.
Принадлежа к числу захолустий, она обладает и всеми особенностями местностей такого рода, то есть множеством всего покосившегося, полуразвалившегося или развалившегося совсем. Эту картину дополняют ужасы осенней грязи, ужасы темных осенних ночей, оглашаемых сиротливыми криками «караул!», и всеобщая бедность, в мамаевом плену у которой с незапамятных времен томится убогая сторона.
Бедное и «обглоданное», по местному выражению, население всякого закоулка, состоящее из мелких чиновников, мещанок, торгующих мятой и мятной водой, мещан, пропивающих все, что выторговывают их жены, гарнизонных солдат и проч., такое бедствующее население в городе Т. пополняется не менее обглоданным классом разного мастерового народа. …»
«Нимало не протестуя против редакционной пометки, вполне точно определяющей значение этой статейки и допускающей появление ее в печати именно только в святочное время, я должен сказать, однако, что наименование «рассказ», данное редакцией этому произведению, почти вовсе не соответствует тому содержанию, которое в этой статейке заключается, и форме, в которой оно будет передано. Никакого последовательного рассказа здесь нет и не было его в действительности. Просто люди разговорились «о душе», …»
«… вспомнил я одного мастерового, с которым познакомился, толкаясь в народе; он очень нравился мне своею понятливостию и знанием всей подноготной городка N. «Я, – говорил он мне, – понимаю все дела в существе, то есть вижу их настоящую тонкость», и действительно: надо отдать ему справедливость, иногда он видел довольно обстоятельно многие провинциальные неуклюжести. Семинаристы, с которыми он водил постоянные знакомства, снабжали его разного рода сочинениями и старинными журналами, вследствие чего талантливый приятель мой возымел желание заниматься сочинительством и не раз нашивал ко мне читать разные собственные произведения; в них изображались разные неправды, достойные обличения, сатиры на квартальных, обличение подлости цирюльника Ивана и проч. …»
«…Отображая типические явления эпохи реакции, Успенский дал в своем очерке яркую зарисовку облика деревенского кляузника «мужицко-чиновничьего типа», выступающего в защиту старых норм жизни. Родственный тип, в том же 1885 году, был создан и А. Чеховым в образе унтера Пришибеева. Людям, цепляющимся за старину, Успенский противопоставляет новые силы, появившиеся в деревне…»
В рассказе «Старый бурмистр» Успенский продолжает поиски ответа на «проклятые вопросы деревенской жизни», что столь характерно для его творчества 80-х годов. Недостатки и тяготы реформы 1861 года оказались настолько значительными, что заставили иных крестьян вспоминать о временах крепостного права, когда «земледельчески-хозяйственная организация деревни» была значительно крепче и опытные бурмистры следили за порядком в деревенской общине.
«…Поводом для написания статьи послужило уголовное дело некоей Скублинской и ее сообщников, слушавшееся в конце октября 1890 года в Варшавском окружном суде и привлекшее широкое общественное внимание. Скублинская жила тем, что принимала за вознаграждение «на воспитание» детей, приносимых ей матерями, и кроме того брала их из воспитательного дома. Младенцы выдерживали недолго: они умирали от голода и от отсутствия ухода. Количество детей, умерщвленных Скублинской, осталось неустановленным; во всяком случае оно составляло несколько десятков. Приговор суда носил чрезвычайно мягкий характер: Скублинская и ее компаньонка были приговорены к трем годам тюремного заключения, остальные сообщники осуждены на срок до шести месяцев…»
«…конец 70-х годов и все последующее десятилетие оказались очень плодотворными для писателя. <…> Но наиболее зрелым произведением этого периода явился большой двухтомный роман «Мор на Москве», позднее получивший название «На Москве». После «Пугачевцев» именно этой монументальной фреске из жизни Москвы 70-х годов XVIII столетия было посвящено наибольшее число критических откликов. Причем отклики эти были более доброжелательными, чем обычно. <…> Действительно, рассказ об эпидемии чумы в Москве в 1771 году, ставшей возможной лишь благодаря некомпетентности и удивительному невежеству власть предержащих и приведшей к окончившемуся кровопролитием народному возмущению, не просто впечатлял, но и заставлял задуматься над природой власти в абсолютистско-крепостническом государстве.
«Для нас, русских людей, они представляют лишь внешний интерес, как замечательное умственное движение, возбужденное во всем мире русской женщиной, без всяких на то средств, кроме своего ума, громадных знаний и необычайной силы воли. Того нравственного значения, за которое ее прославляют на Западе, провозглашая борцом за жизнь загробную, за главенство в человеческом бытии духа, за ничтожество плоти и земной жизни, данных нам лишь как средство усовершенствования бессмертной души нашей, как противницу материализма и поборницу духовных начал в человеке и природе, – в России она иметь не может…»