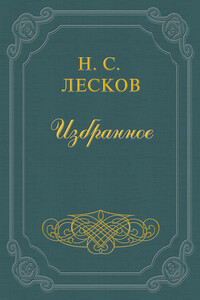Скачать книги жанра Русская классика
«По некоторым, достаточно важным причинам выставленная кличка должна заменять собственное имя моего героя – если только он годится куда-нибудь в герои.
Если бы я не опасался выразиться вульгарно в самом начале рассказа, то я сказал бы, что Шерамур есть герой брюха, в самом тесном смысле, какой только можно соединить с этим выражением. Но все равно: я должен это сказать, потому что свойство материи лишает меня возможности быть очень разборчивым в выражениях, – иначе я ничего не выражу. Герой мой – личность узкая и однообразная, а эпопея его – бедная и утомительная, но тем не менее я рискую ее рассказывать…»
«Мессер Фабрицио был мал, хил и слаб, так как тело его было истощено непрерывными и чрезмерными занятиями, но лицо имел важное и строгое, взор глубокомысленный, брови густые и нахмуренные, походку величественную и медленную, и никто не умел с бóльшим достоинством носить малиновую профессорскую пелерину, подбитую заячьим мехом, и громадную шляпу, похожую на тот вкусный пирог с вареньем, который хозяйки пекут детям накануне Иванова дня…»
«Те, кто бывали во Флоренции, помнят величественный купол собора Мария дель Фьоре – истинно божественное создание человеческого духа. Со времени греков и римлян ничего во всей Европе не было построено столь светлого и разумного. Замысел купола, как бы повешенного в воздухе волей строителя, реющего над городом на страшной высоте, легкого, прекрасного и незыблемо утвержденного по вечным законам механики, казался таким дерзновенным и неисполнимым, когда был предложен на собрании опытных строителей, что архитектора, придумавшего этот план, Филиппо сире ди Брунеллеско сочли безумцем. Чтобы исполнить свой замысел, Филиппо должен был всю жизнь бороться с ненавистью и презрением глупцов, с боязнью и упорством умных людей, не смевших поверить в законы собственного разума…»
«Фра Мино превосходил смирением своих братьев и, несмотря на молодость, мудро управлял обителью Санта Фьоре. Он был набожен, любил предаваться долгим созерцаниям и молитвам. Иногда бывали у него экстазы. Подобно святому Франциску, своему духовному отцу, сочинял он песни на языке простонародном о совершенной любви, которая есть любовь к Богу…»
– Однако иной если и на час навяжется, то можно всю жизнь помнить, – отозвался дьякон.
– Чего же это так?
– А если, например, нигилист, да в полном своем облачении, со всеми составами и револьвер-барбосом.
– Это сужект полицейский.
– Всякого это касается, потому, вы знаете ли, что одного даже трясения… паф – и готово.
– Оставьте, пожалуйста… К чему вы это к ночи завели. У нас этого звания еще нет.
– Может с поля взяться.
«Напечатанные в 1878 году очерки „Мелочи архиерейской жизни“ вызвали несколько заметок, написанных духовными лицами, между которыми были и два архиерея.
Между письмами почтивших меня корреспондентов есть несколько выражающих мне укоризну за „погоню за простотою“. В этом писавшие усматривают „влияние протестантского духа“…»
– Почему ты это мне запрещаешь?
– Потому, что ты, выросшая в язычестве и в нем пребывающая, не можешь понимать христианскую веру и не в состоянии рассуждать о ней как должно.
– Я знаю одно, что ваш Учитель просил делать добро и не собирать богатства. Фалалей отвечал:
– Да; ты знаешь одно, но не знаешь другого. В нашей вере есть то, что тебе непонятно: чтобы быть добрым, надо иметь чем людям помогать: я хочу быть не только кроток, как голубь, но и разумен, как змей. Я наживаю богатство и хочу иметь еще более – это все правда; но это вовсе не с тем, чтобы кичиться богатством, как делают ваши язычники и вообще гордые люди, а я богатею с тем, чтобы, собрав много в своих руках, потом излить это на всех и начать благотворить своим по вере. Поверь, что когда в моих руках соберется столько богатства, что все будут беднее меня, тогда я сумею быть более добрым, чем могу сделать теперь, а ты лучше не мешайся не в свое дело и не осуждай меня за то, что я хочу быть очень богатым.
«Утром рано полусонные, всею компаниею послезали мы с сеновала и как только уселись в тарантас, так начали опять дремать или, как выражался Гвоздиков, „начали удить“. Ямщик позевывал и пожимался в своей свитенке; у него тоже „клевала“. Бубенчики мелодически погромыхивали и еще более усиливали снотворное влияние ранней зари. Отъехали верст восемь, солнышко уж поднялось над лесом, час был осьмой, в начале…»
Так все говорил, а сам плакал и потом вдруг приложил лоб к оконному стеклу, вздохнул и побежал из комнаты.
Куда и зачем побежал – мы не могли догадаться и долго ждали его возвращения, но потом так и уснули, не дождавшись, чтоб он назад пришел; а утром, когда старая девушка Василиса Матвеевна принесла нам свежее белье, мы узнали, что Иван Яковлевич к нам и совсем не воротится, потому что он сошел с ума.
– Боже мой!.. – Мы так и обомлели… – Бедный, добрый Иван Яковлевич сошел с ума!.. Это все мы виноваты. Но что же он такое сделал?
Иван Сергеевич Тургенев, знавший покойного Бенни за человека честного, вступился за оскорбление его памяти намеком, кинутым на нее упоминанием о тех толках, которые, по словам некролога, «были неблагоприятны для Бенни», и напечатал в другой газете, что покойный Бенни был человек чистый и неповинный в том, что столь недостойно на него возводилось.
Вот и все краткое сказание о жизни и смерти человека, деятельность которого в России не лишена самого живого интереса и лучше всякого вымышленного направленского романа знакомит нас с характерами деятелей недавно минувшего, беспокойного и оригинального времени. Но, прежде чем мы дойдем до того рода деятельности Артура Бенни, которая давала повод досужим людям выдавать его то за герценовского эмиссара, то за шпиона, скажем два слова о том, кто таков был взаправду этот Бенни, откуда он взялся на петербургскую арену и какими путями доходил он до избрания себе той карьеры, которою сделался известен в самых разнообразных кружках русской северной столицы.
«Лет пятнадцать назад в одном селе умер от опоя приходский пономарь; и был похоронен на своем приходском кладбище. Как на грех, вскоре же после похорон этого опивицы настала засуха; зелени стали желкнуть, крестьяне повесили головы, подняли образа, отслужили на поле мирской молебен на коленах с рыданиями, а засуха все продолжалась. Крестьяне совсем растерялись, – хорошо знакомые ужасы предстоящего голода приводили их в совершенное уныние. Вдруг в село заходит какой-то грамотей, не то солдат, не то коробейник…»
«Зимним, северный день с небольшою оттепелью. Два часа. Рассвет не успел оглядеться, и опять смеркается.
В гостиной второй руки сидят за столом хозяйка и гостья. Хозяйка стара, и вид ее можно бы назвать почтенным, если бы на лице ее не отпечатлелось слишком много заботливости и искательности. Она зрела когда-то лучшие дни и еще не потеряла надежды их возвратить, но она не знает, чту для этого надо сделать. Чтобы ничего не упустить, она готова быть всем на свете: это «сосуд», сформованный «в честь» и служащий ныне «сосудом в поношение». Гостья, которую застаем у этой хозяйки, тоже не молода…»
Спор возгорелся в первый же день нашего прибытия в Ревель, как только дети сошли в сад. Я узнал об этом сначала через донесение прислуги, для которой хозяйские контры на самых первых порах при занятии дачи представляли много захватывающего интереса, а потом я сам услыхал распрю в фазе ее наивысшего развития, когда спор был перенесен из комнат под открытое небо. Это было в полдень. В сад вышли три немки: дама высокая, стройная и довольно еще красивая, с седыми буклями; дама молодая и весьма красивая, одного типа и сильно схожая с первою, и третья – наша хозяйка, онемеченная эстонка, громко отстаивавшая права моего семейства на пользование садом.
3) Октября 29. Старец Авраамий «сочетался с женой», но потом, когда вник в семейную жизнь, то она ему не понравилась – он нашел, что домом жить очень хлопотно и беспокойно, и вообще это гораздо труднее отшельничества, к которому он уже привык. Тогда Авраамий опять оставил жену и, «отшед, затворился в мале хлевине». Теперь ему не о ком было заботиться; но когда Авраамий просидел в затворе девять лет, умер его брат и оставил семилетнюю дочку. Волей-неволей Авраамию пришлось взять племянницу на свое попечение. Авраамий вышел из «хлевины», сделал тут же рядом другую такую же «хлевинку» и замуровал туда дитя. Девочка прожила замурованная в затворе на глазах у дяди тринадцать лет и никаких дурных примеров не видала, но когда пошел ей двадцатый год, «она завистию бесовскою впала в падение». Неизвестно, как она, замурованная, чрез оконце «познакомилась с блудницами», выкарабкалась из затвора и ушла с этими своими знакомками в такую «гостиницу», где собирались в досужное время военные люди. Военные же люди в той стране так любили женское общество, что везде подманивали к себе девиц, а обратно получить от них девушку было уже очень трудно. Они отпускали женщину разве только тогда, когда она им надокучит и они сами ее прогонят. Старец их усовещевал и кричал на них и угрожал им из своего затвора, но военные смеялись, и его молоденькой затворницы ему не отдали, а увели ее и не возвращали. Зная это, старец Авраамий обратился к хитрости, которою и достиг желанного успеха. В один день он сам вышел из своего затвора, достал себе верхового коня, добыл воинские доспехи, «во образ воинский оболкся» и поехал верхом в ту же самую гостиницу, где веселились с женщинами военные, к которым ушла из затвора его племянница. Переодетый воином, затворник держал себя в гостинице так искусно, что никто его не узнал, и даже не заподозрил, что это затворник, а все сочли его за настоящего военного. Даже и племянница его не узнала, а он, увидя это, сам притворился разбитным гулякой и стал звать не узнающую его девушку, чтобы она шла с ним отсюда препроводить дальнейшее время, за что Авраамий обещал ей дать по обычаю «дар». Молодая девушка, еще недавно только пустившаяся в гулевую жизнь, ничего хитростного не подозревала и ушла с Авраамием из гостиницы, в полном убеждении, что ей сопутствует настоящий воин. А когда они остались вдвоем, тогда Авраамий ей себя обнаружил и укорил ее и уж на свободу не выпустил, а посадил опять «в малу хлевину», где она, после долгих стенаний и плача, «покаялась, а послежди, чудеса творяше, скоро почила».
«В нынешнем году мною записана для И. С. Аксакова народная легенда «о косом левше» – простолюдине, в рассказе о котором выводится лицо государя Николая Павловича и многих важных людей его времени. Теперь я предлагаю вниманию читателей еще более новую легенду того же творчества, в которой слагатели выражают свои представления о хищниках, упоминая притом о государе Александре Александровиче как об искоренителе хищничества…»
Мелита научила Пруденция читать и писать, петь и играть на цевнице, шибко бегать и бросать в цель металлические кружки и кольца.
Так как Гифас и Алкей прожили век в своем полудиком, не столько торговом, сколько разбойничьем поселке, то они не знали никаких подобных изящных упражнений и развили свои силы прямо в суровой борьбе с морем, но Ефросине нравилось, чтобы Пруденций был воспитан нежнее и ближе к тогдашней моде.
В упражнениях Пруденция в силе и ловкости с ним состязалась сама его учительница, прекрасная Мелита, и ее молодая черная рабыня-финикиянка Марема, которую тоже звали короче Мармэ.