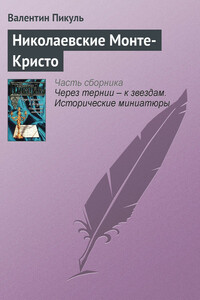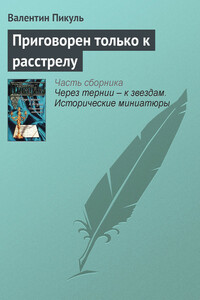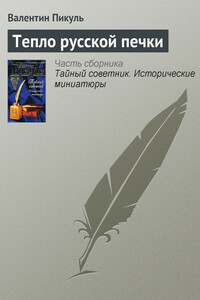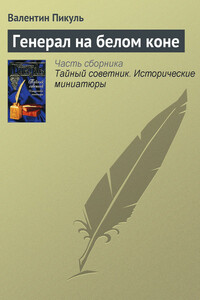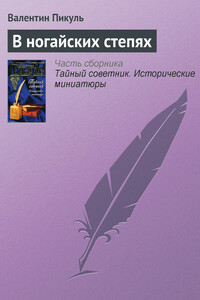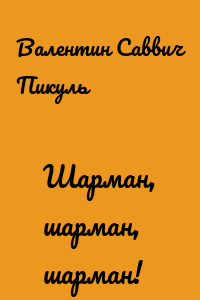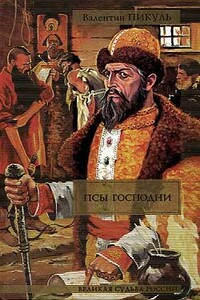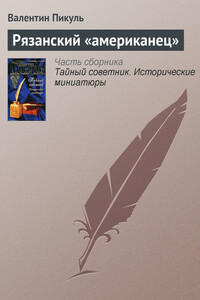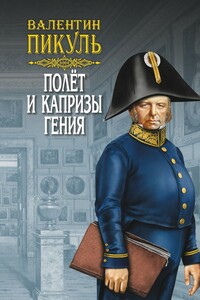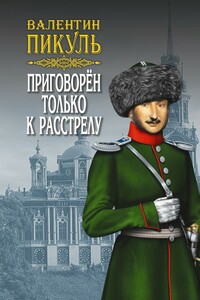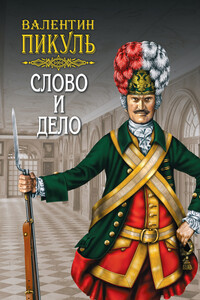Скачать все книги автора Валентин Саввич Пикуль
«…Теперь мне интересно знать о Политковском все. Он уже попал в засаду. Логово вора обвешано красными флажками. Капканы на него расставлены. Пройдет год или два, может, даже десять лет, но я уверен, что Политковский непременно станет моей добычей. И он… стал! Первые мои записи о нем относятся к 1957 году, а сейчас на дворе 1974-й – вот и считайте, сколько лет ушло на выслеживание этого редкого и крупного зверя…»
«…После смерти Льва Толстого столичный журналист Панкратов навестил престарелого петрашевца в его калужском имении. Он застал его обложенным грудами старых писем.
– Времени нет разобраться, – жаловался Николай Сергеевич. – Все дела, дела, дела… много дел накопилось.
Панкратов глянул и ахнул: письма декабристов Пущина и Оболенского, Льва Толстого, Федора Достоевского, многих-многих великих людей, уже помещенных в Пантеон русской славы.
– Да, – сказал Кашкин, – тут много чего сыщется…»
«…Мы, русские, по сути дела, выросли от печки, мы танцевали от нее. Она давала в доме здоровье, готовила еду, согревала лежанку, пекла хлебы, а вкус топленого молока всем памятен. За печкой укрывались от женихов стыдливые невесты, за ней наши предки таили то, что надо было спрятать. Бытовали выражения: «Печкой ушибленный», «Не за печкой родился»; о печках слагали песни, печка вошла в народную мудрость пословицами: «Лежа на печи, выгладил кирпичи», «Сколь ни валяйся на печи, а генералом не станешь». Наконец, моя бабушка Василиса Минаевна Каренина рассказывала, что в их деревне парились в печках, как в бане, даже лучше…»
«…Четвертого апреля 1866 года каждый россиянин пробуждался, как ему хотелось. Нас интересует лишь четыре пробуждения в этот памятный для России день.
Первое. Пробуждение императора Александра II.
Второе. Пробуждение генерала Эдуарда Ивановича Тотлебена.
Третье. Пробуждение неизвестного с подложным паспортом.
Четвертое. Пробуждение картузных дел мастера Осипа Комиссарова.
Казалось бы, читатель, между этими людьми, пробуждения которых были столь различны, нет и не может быть ничего общего. Но история уже решила свести их в один плотный пучок. Эти четыре человека сейчас начнут сходиться вместе и станут уже неразделимы в событиях этого дня – дня 4 апреля 1866 года.
Мемориальная доска на решетке Летнего сада для того и повешена, чтобы этот день не угас в нашей памяти!…»
«…Честно говоря, я совсем не понимаю, чем Скобелев, умерший за 37 лет до революции, мог провиниться перед потомками. Но отношение к Скобелеву уцелело среди осторожных и перестраховщиков, которые украдкой говорят писателям: «Знаете, о Скобелеве лучше бы не писать…»
Нет, будем писать о нем, ибо его имя принадлежит вам, как имена Шереметева, Салтыкова, Суворова и Кутузова…»
«…„Вольный казак Ашинов“! Кто его знает сейчас?
Пожалуй, все забыли. А между тем, этот человек ссорил великие державы, дипломаты писали о нем ноты, из-за него гремели залпы крейсеров, через пекла африканских пустынь шагали целые армии. „Только пыль, пыль, пыль – от шагающих сапог…“ Ашинов – дерзко и откровенно – проник в Африку, чтобы помочь ей в борьбе с колонизаторами. Вольность заводила его далеко: побывал он в Персии и в горах Афганистана; по слухам, добредал и до Индии, наведывался даже в Аравию. На берегах Мраморного моря Ашинов отыскал потомков булавинских казаков, бежавших с Кубани и Дона, уговаривал их вернуться на родину. Какие причины хороводили его по белу свету – один сатана знает…»
«…Долгие годы в нашей литературе имя Фальц-Фейнов изымалось из обращения, и наш читатель мог подозревать, что знаменитая Аскания-Нова явилась сама по себе, будто рожденная по щучьему велению, а редкие звери Азии, Африки или Америки, презрев все преграды и расстояния, сами по себе вдруг сбежались в ногайские степи Таврии.
Не пора ли помянуть добрым словом создателей уникального заповедника и рассказать об этой семье то, что мы знаем…»
«…После «генерала-метеора» Котляревского, после Кульнева и Перовского – для контраста! – любопытно обрисовать и облик «генерала-шарманщика». Человек, о котором пойдет речь, не способен вызвать нашего восхищения. Но даже презрения он не заслуживает. Пишешь вот о таком и невольно теряешься, порою не зная, как следует к нему относиться. Ведь он не злодей, в жизни никому зла не сделал…»
Но самое ценное, что даровано человеку, – это время. Когда закончилась война, у меня было всего пять классов образования. Надо было зарабатывать себе на хлеб. Я выбрал хлеб литературный. Хотел быть парашютистом, но для этого требовалось восемь классов. Мечтал стать машинистом, меня опять не взяли на курсы по той же причине. Я не иронизирую над своей судьбой: она действительно сложилась так, что мне деваться было некуда. Вы только не думайте, что в литературе меня ждали. Напротив, мне пришлось преодолеть огромные трудности, пока в 1956 году меня не приняли в Союз писателей. Но, и выпустив первую книгу, я понял, что жизнь будет трудной. Надо было доказывать свое право называться литератором. До 30 лет я учился самостоятельно. И вот сейчас, когда уже выпущено более двадцати книг, я признаюсь – своей работоспособностью я еще не удовлетворен…
«…Возможно, я не стал бы писать о Лаврентии Загоскине, если бы в Америке его не ценили более, нежели у нас.
Наверное, не стал бы писать о нем, если бы улицу в Рязани, на которой он жил и умер, назвали бы «Загоскинской», а не улицей немецкого еврея Карла Либкнехта, который к древней Рязани абсолютно никакого отношения не имел и не имеет.
Может быть, и не стал бы писать о нем, если бы его пронское имение Абакумово, где он рассадил величавые сады, ничуть не хуже мичуринских, не превратили бы в колхоз «Пионер», в котором эти сады исчезли, – и всюду, чего ни коснись, имя этого человека постыдно затоптано, предано забвению…»
«…Помнится, еще в молодости мне встретился любопытный портрет благоприятного человека в очках, под изображением которого пудель тащил в зубах инвалидные костыли. Это был портрет Николая Ивановича Кривцова. Писать о нем легко, ибо его не забывали современники в своих мемуарах, но зато и трудно, ибо перед этим человеком невольно встаешь в тупик: где в нем хорошее, а где плохое? Одно беспокойство…»
Исторические миниатюры Валентина Пикуля – уникальное явление в современной отечественной литературе, ярко демонстрирующее непревзойденный талант писателя. Каждая из миниатюр, по словам автора, «тоже исторический роман, только спрессованный до малого количества».
Миниатюры, включенные в настоящее издание, представляют собой галерею портретов писателей, художников, музыкантов и других творческих личностей, живших в XVI – начале XX в.
Исторические миниатюры Валентина Пикуля – уникальное явление в современной отечественной литературе, ярко демонстрирующее непревзойденный талант писателя. Каждая из миниатюр, по словам автора, «тоже исторический роман, только спрессованный до малого количества».
Миниатюры, включенные в настоящее издание, представляют собой галерею портретов исторических личностей XVIII – начала XX в., много сделавших на благо России.
Великая Отечественная война – на море!
Здесь сражаются и против врага, и против беспощадной стихии.
Здесь – ТРУДНЕЕ и ОПАСНЕЕ, чем на суше… И важно помнить одно – каждого из героев Северного флота помнят и ждут на берегу.
Это – «Океанский патруль».
Первый роман Валентина Пикуля.
Одна из лучших военных саг XX столетия!
Роман В.С. Пикуля «Слово и дело» состоит из двух книг: «Царица престрашного зраку» и «Мои любезные конфиденты». События, описываемые в романе, относятся к эпохе дворцовых переворотов XVIII века, прежде всего к периоду царствования императрицы Анны Иоанновны. Роман передает весь драматизм борьбы патриотически настроенных русских людей против засилья иноземцев во главе с могущественным фаворитом царицы герцогом Бироном, против разграбления богатств России.
Книга «Мои любезные конфиденты» разделена издательством на две части. Во второй части описаны следующие драматические события политической истории России: дело Волынского, смерть Анны Кровавой, короткий период регентства Бирона и конец бироновщины, правление бесцветной Анны Леопольдовны и, наконец, переворот, совершенный Елизаветой Петровной.